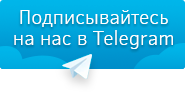Мировой рынок энергоресурсов за последние несколько лет претерпел существенные изменения. Санкции Запада в отношении России заставляют некоторые страны все больше задумываться о диверсификации путей транспортировки своих нефти и газа на внешние рынки. Немаловажное место данный вопрос занимает в политике стран постсоветского пространства, в том числе Казахстана, для которого сотрудничество с РФ в энергетической сфере носит стратегически важный характер.
Известно, что оставшаяся после распада СССР нефтетранспортная система была рассчитана на транзит нефти из Казахстана по территории России. Ее основу изначально составлял нефтепровод «Узень – Атырау – Самара» мощностью 15-18 млн тонн в год, соединяющий сегодня месторождения Атырауской и Мангистауской областей с портом Усть-Луга. Кроме того, был разработан путь из казахстанского порта Актау через Каспийское море на танкерах до нефтепровода «Махачкала – Новороссийск», однако он имеет еще более низкую пропускную способность – около 4,2 млн тонн в год.
В 1999 году началось строительство новой системы, получившей в последующем название Каспийского магистрального нефтепровода (КМН) протяженностью более 1,5 тыс. км. Первые пробные партии нефти были отправлены по нему в 2001 году, а к середине 2004 года он вышел на показатель полной пропускной способности первого этапа – 28,2 млн тонн. Через несколько лет прокачка достигла 35 млн, а последующие работы позволили довести его потенциальную мощность до 83 млн тонн нефти в год, из которых на долю Казахстана досталось около 72 млн.
В КМН в основном поступает нефть с месторождений Западного Казахстана, а также российских нефтедобытчиков, после чего транспортируется до морского терминала возле Новороссийска, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Контроль над данным нефтепроводом принадлежит созданному Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), среди крупнейших акционеров которого – Россия (через «Транснефть») и Казахстан («Казмунайгаз»), а также структуры «Роснефти», «Лукойла», Chevron, ExxonMobil и Shell.
Значимость КТК для Казахстана, получающего порядка 60% экспортной выручки от продажи нефти, сложно переоценить, так как через него прокачивается до 80% всего объема черного золота, идущего на внешние рынки, в первую очередь в Европу. При этом за последние годы даже с учетом введения в отношении России жестких западных санкций ситуация коренным образом не изменилась. Так, в 2022 году КТК прокачал по своей трубопроводной системе 58,7 млн тонн нефти, из которых около 52,2 млн – с территории Казахстана. На следующий год было отгружено уже 56,05 млн тонн казахского сырья и 7,4 млн тонн российского, что стало рекордом консорциума.
В 2024 году в трубопроводную систему КТК с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган поступило 53,8 млн тонн, а общий объем перекаченной нефти составил чуть более 63 млн. Всего же с 2001 года через нефтепроводную систему «Тенгиз – Новороссийск» на мировые рынки было поставлено более 951 млн тонн черного золота.
Вместе с тем власти Казахстана уже не первый год говорят о необходимости диверсификации путей своего нефтяного экспорта, опасаясь слишком большой зависимости от российского маршрута. Причем обосновывается это тем, что в стране в ближайшие годы предполагается значительно нарастить объемы добычи нефти. Так, помимо расширения разработки Тенгиза, где запланировано наращивание добычи на 12 млн тонн, в 2028-2029 годах ожидается увеличение добычи на Кашагане и начало работ в рамках проекта «Каламкас – Хазар». Прогнозируется, что в 2030 году страна сможет достичь добычи в 112 млн тонн в год, в то время как в 2024 году этот показатель составил 87,7 млн.
Именно такие расчёты ставятся в основу заявлений Астаны о необходимости диверсификации маршрутов экспорта нефти в первую очередь через так называемый Транскаспийский маршрут (пролегает через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы), который еще в 2022 году президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был назван «приоритетным». После этого «КазМунайГаз» и азербайджанская госкомпания Socar заключили соглашение о транзите 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан» (БТД).
В ноябре 2024 года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Астана намерена перенаправить свой экспорт на мировой рынок через Азербайджан и Турцию и на 2025 год уже запланировано увеличение транспортировки по данному маршруту до 3 млн тонн. Дополнительно к этому рассматривается возможность отправки до 3 млн тонн нефти ежегодно по нефтепроводу «Баку – Супса», чья пропускная способность составляет около 5 млн тонн в год. Всего же речь идет перенаправлении в будущем порядка 30% вероятного экспорта казахстанской нефти.
Однако к настоящему времени все подобные планы продолжают разбиваться о суровую реальность. Действительно, потенциальная мощность БТД составляет порядка 60 млн тонн в год, хотя ежегодная прокачка составляет чуть больше 30 млн. И на бумаге он вполне может быть использован Казахстаном, если страна значительно увеличит добычу нефти. Однако на практике данный маршрут имеет ряд проблем, решить которые за короткое время вряд ли удастся.
Во-первых, нельзя забывать о том, что сегодня транспортировка по БТД гораздо дороже, чем по КТК: около в $100-120 за тонну против $38. Во-вторых, сама пропускная способность маршрута невысокая: нефть сначала загружается в танкеры в порту Актау, затем доставляется на терминалы Сангачал и Азиртранс в Баку, после чего перекачивается в нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан» и только после этого направляется на рынки ЕС. Для прокачки по данному маршруту больших объемов Казахстану нужно расширить нефтепроводы на подходе к своим портам на Каспийском море и существенно нарастить флот нефтяных танкеров (пока удалось купить только два), которые будут курсировать до Баку. Одновременно Азербайджану придется расширить и свою приемную инфраструктуру. Все это потребует значительных инвестиций, поиск которых может занять не один год с весьма туманными перспективами.
Кроме того, азербайджанская SOCAR, которая заполняет основный объем нефтепровода БТД, сегодня выступает против увеличения поставок нефти из Казахстана, так как казахстанское сырье более сернистое, чем азербайджанский сорт Azeri Lights, а значит, и дешевле (дисконт к сорту Brent $1-2 против премии в $3-4 за баррель). Таким образом, если в БТД принимать более 2,2 млн тонн казахской нефти, о чем ранее договорились стороны, то это приведет к ухудшению качества азербайджанской и снижению ее цены, что абсолютно не устраивает Баку.
Нельзя забывать и о том, что сегодня Казахстан связан с российскими компаниями долгосрочными контрактами, что ограничивает его возможности для выстраивания альтернативных путей экспорта, так как почти все добываемые объемы нефти уже законтрактованы, а быстрое наращивание добычи затруднительно. Более того, правительство РК не может напрямую заставить компании, добывающие в стране нефть, отправлять ее по маршрутам, которые им невыгодны, а среди них, как уже указывалось, не только российские, но и европейские, и американские концерны, прекрасно умеющие считать деньги. Тем более что никаких претензий относительно нефти из Казахстана, идущей транзитом по территории РФ, никто на Западе пока не предъявляет, а вкладывать миллиарды долларов в обустройство новых маршрутов с весьма туманной перспективой сегодня никто не хочет.
Помимо этого, на сегодня нет никакой ясности и с еще одним проектом, о котором Казахстан, Туркменистан и Азербайджан говорят еще с 2007 года, – прокладкой нефтепровода по дну Каспийского моря. Все это, как и туманная ситуация с реальной возможностью Казахстана нарастить добычу нефти более чем на 20 млн тонн в год, делают любые альтернативы КТК в обозримом будущем бесперспективными. Однако это не означает, что в Астане о них забудут, так как казахстанские власти видят в продолжающихся обсуждениях маршрутов в обход РФ один из инструментов торга с Москвой. Особенно в нынешних условиях противостояния России и Запада.
Вместе с тем не стоит забывать, что в нефтяной сфере Россия и Казахстан сотрудничают давно, и сегодня у Астаны нет более близкого партнёра в этой области. Например, помимо работы КТК, РФ связана с системой казахстанских трубопроводов за счет транзита нефти в Китай, куда идет около 10 млн тонн ежегодно. Казахстан, в свою очередь, из-за растущих потребностей внутреннего рынка периодически сталкивается с дефицитом топлива, который компенсирует Россия. Кроме того, именно Москва является одним из немногих партнеров Астаны, который готов вкладывать как в разработку, так и строительство новой транспортной инфраструктуры, поскольку это укладывается в концепцию РФ по созданию общей энергетической сети на евразийском пространстве.
Дополнительно следует помнить, что Россия и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза, где уже запланировано создание единого энергетического рынка, предусматривающего в том числе обеспечение гарантированной возможности долгосрочной транспортировки нефти и нефтепродуктов через равный доступ участников к трубопроводным системам. Все это и многое другое говорит о том, что КТК, как и нефтепровод «Узень – Атырау – Самара», через который переваливается около 10-12% казахстанского сырья, в обозримом будущем останутся главными системами экспорта нефти из Казахстана.
Все предлагаемые альтернативы, начиная от транспортировки по железной дороге и заканчивая проектами строительства нефтепровода по дну Каспийского моря, вряд ли смогут заменить традиционные маршруты по российской территории. Тем более что их пропускная способность вполне может быть расширена с относительно небольшими затратами, если Казахстан действительно добьется существенного роста добычи нефти. Однако об этом сегодня говорить еще рано, а значит, и проблем у КТК в ближайшем будущем не предвидится.